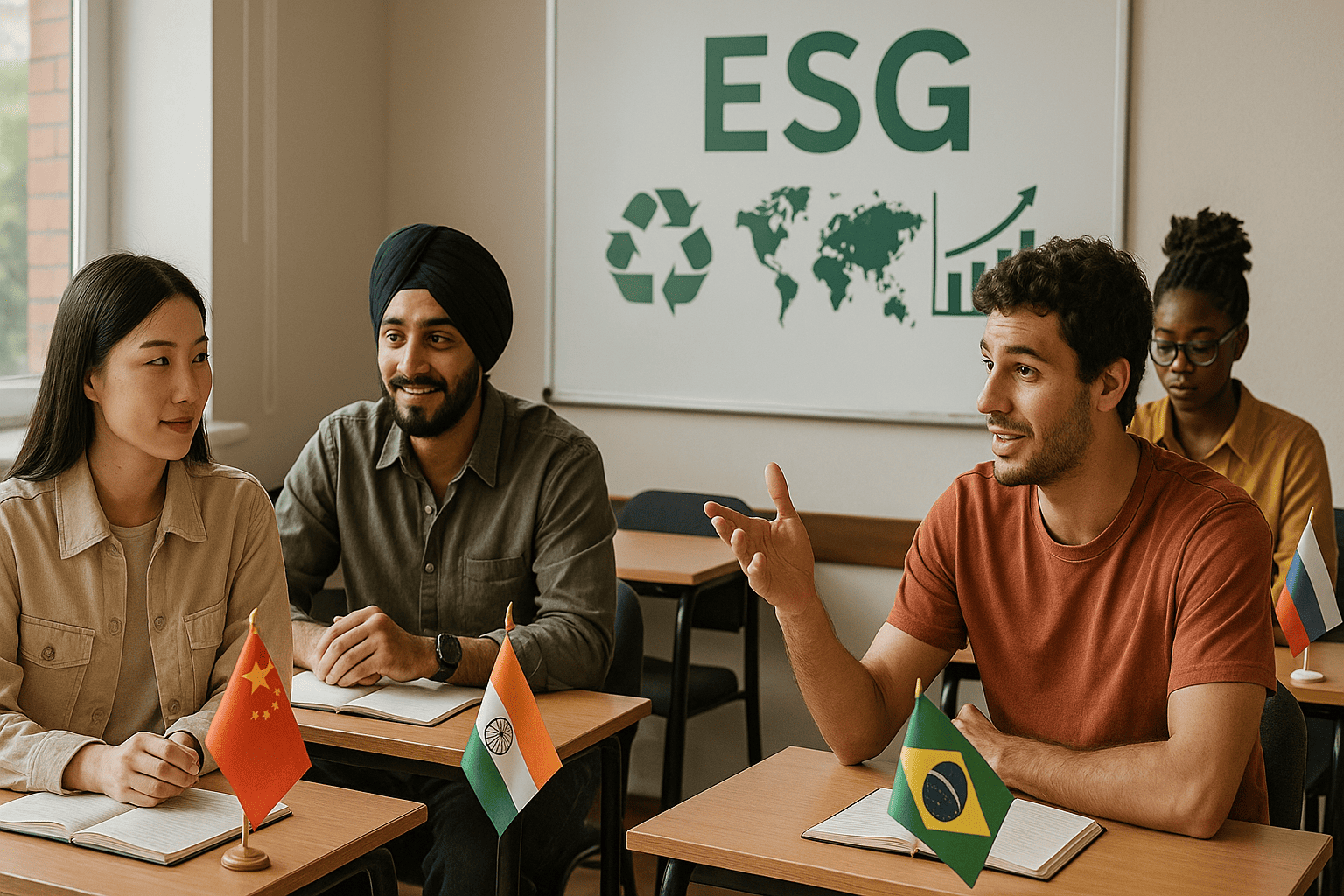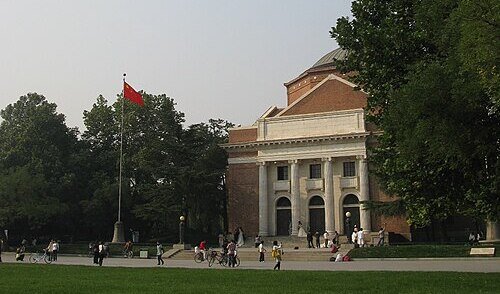ESG-образование в БРИКС развивается разными путями: от централизованных обязательных курсов в Китае до гибких партнёрств в Бразилии. Разбираем, как устроены модели, где они дают результат и какие метрики уже заметны чтобы было проще ориентироваться в практике и тенденциях.
ESG-образование в БРИКС: Китай — универсальные курсы как стандарт
Китай опирается на централизованную логику: крупная система вузов и национальные планы превращают ESG в «базовый предмет». Обязательные курсы охватывают большинство университетов, а «зелёные» кампусы получают госфинансирование и KPI. Развитие идёт «сверху вниз»: от нормативов к учебным планам и инфраструктуре.
За последние годы Китай утвердил системные документы: действует план по построению «зелёной и низкоуглеродной» системы образования, региональные версии (например, Шанхай) и программы для вузов по подготовке кадров под углеродную нейтральность. Это подтверждает «каскад» от центра к регионам и быстрый переход от политики к изменениям на кампусах.
Результат — предсказуемый масштаб: междисциплинарные центры устойчивого развития, рост научных публикаций и интеграция ESG на всех уровнях от школ до магистратур. Минус — меньшая вариативность. Но для задачи массового охвата это плюс: преподавателям и студентам проще войти в тему через унифицированные курсы и понятные требования. Материалы удобно собирать в едином репозитории кафедры и синхронизировать с кейсами партнёров.
- Политика: нацплан «зелёного и низкоуглеродного» образования + планы регионов.
- Инфраструктура: «зелёные кампусы», энергоэффективность, модернизация зданий.
- Учебные планы: обязательные ESG-модули и междисциплинарные курсы.
- Исследования: центры устойчивого развития и грантовые конкурсы.
- Отчётность: открытые метрики и мониторинг прогресса.
ESG-образование в БРИКС: Бразилия — цифровая гибкость и партнёрства
В Бразилии модель иная: государство задаёт рамки, а реализация на совести самих университетов и их партнёров. Преимущество — скорость экспериментов: цифровые платформы, проекты с бизнесом, мастер-планы устойчивости. Сильные игроки «тянут» рынок.
Структура сектора подтверждает неравномерность: почти 88% вузов частные. В 2024 обновлена Нацполитика экологического образования: отдельно выделены климат, биоразнообразие, риски и уязвимость к техногенным и природным ЧС — это подталкивает вузы к пересмотру программ. На практике лидеры USP (энергопереход: собственная солнечная генерация, переход на свободный рынок электроэнергии для снижения углеродного следа) и UNICAMP/HIDS (инновационный «зелёный» район и интеграция устойчивости в стратегический план).
Индия и ЮАР — амбиции, масштаб и зазоры
Индия масштабна по охвату: тысячи вузов и десятки тысяч колледжей внедряют экологическое образование. С 2023/24 учебного года UGC сделала обязательной экологическую дисциплину для всех бакалавров (4 кредита: климат, устойчивость, полевые работы). Флагманы показывают пример: IIT Delhi запустил магистратуру по энергетическому переходу и устойчивости (кампус Абу-Даби; старт 2024) и увеличивает долю чистой энергии на кампусах.
ЮАР — ключевой игрок Африки. ESG включён в национальные цели; на школьном уровне помогает программа Fundisa for Change (онлайн-курсы и методички для учителей). В университетах практические результаты: Университет Йоханнесбурга с 2015 года снизил углеродный след примерно на 38%; UCT ко-организовал глобальный саммит по правам человека и климату (2025) и развивает проекты по адаптации к жаре для уязвимых сообществ. При этом региональные различия сильны: сельские школы и вузы движутся медленнее. Вывод — без выравнивания доступа к ресурсам эффект от амбициозных планов будет точечным.
Россия — нормативная база и практические кейсы
В России сильна правовая рамка: экологическое просвещение закреплено концепцией и поддерживается стандартами. Университеты запускают центры и магистратуры, а в школе и СПО разворачиваются курсы и проекты («Зелёная школа» и др.). Это создаёт «каркас», к которому проще привязывать обязательные предметы и элективы.
Зоны роста — прозрачность отчётности и межрегиональный разрыв: лучшие кейсы есть, но их нужно масштабировать и публиковать в открытом доступе. Практические примеры: ESG-центр ВШБ НИУ ВШЭ, программы РУДН по ESG-подходам и ESG-инвестициям; в регионах треки по «экологической безопасности».
Что работает лучше: выводы исследования
Централизованные модели с чёткими KPI и обязательными курсами показывают более быстрый и предсказуемый прогресс — это видно на примерах Китая и части программ ЮАР. Децентрализованные системы Бразилии и Индии гибче, но требуют «усилителей»: типовых курсов, открытых данных и партнёрств с бизнесом. Для России ключ — прозрачная отчётность и тиражирование лучших практик.
- Китай: нацплан «зелёного» образования + региональные планы (Шанхай).
- ЮАР: национальные цели + учительские программы (Fundisa for Change).
- Сильные стороны: быстрый охват, унификация KPI и отчётности.
- Бразилия: обновление PNEA (2024), драйвят лидеры (USP, UNICAMP/HIDS).
- Индия: UGC — обязательный курс; «острова качества» в флагманах (IIT Delhi).
- Россия: концепция экопросвещения + сеть практик (РЭО, ESG-курсы).
Заключение
Централизованные модели ESG-образования в БРИКС быстрее масштабируются и дают стабильный базовый результат. Гибкие модели требуют настроенных «усилителей» типовых программ, открытых данных, партнёрств и прозрачной отчётности. Если вы внедряете ESG в учебный план, начните с «минимального набора»: обязательный модуль, практикум с внешним партнёром и открытая витрина метрик.